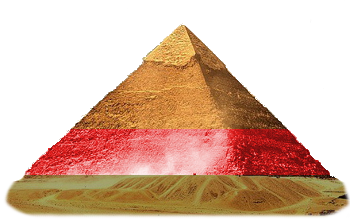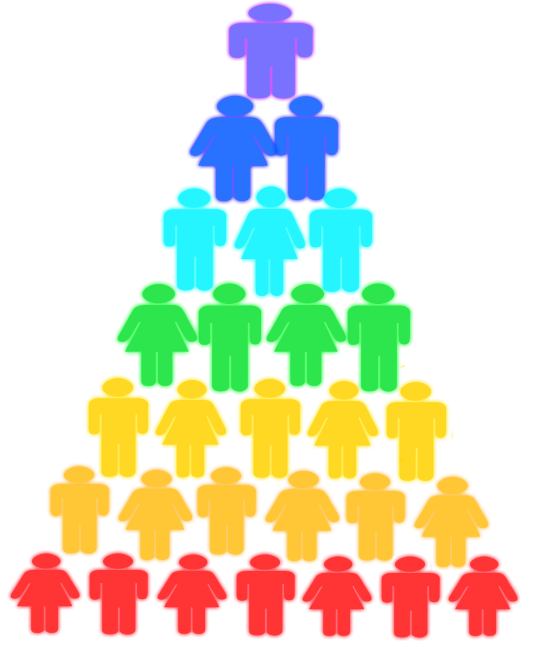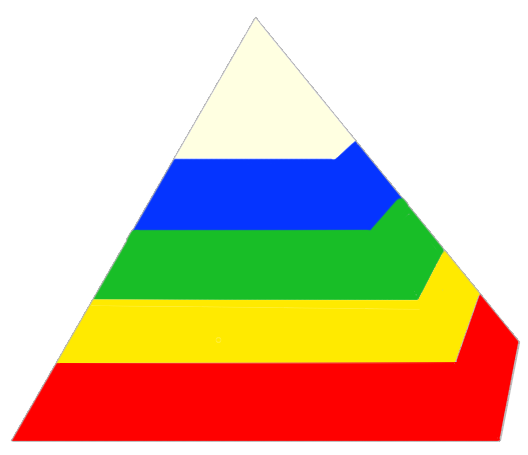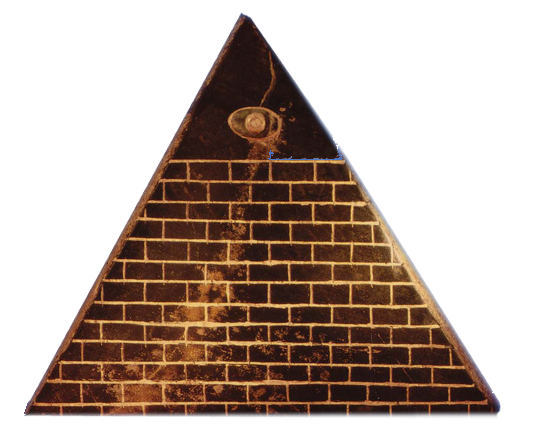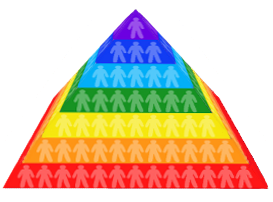|
Две жизни. Часть 1. Глава 2. Пир у АлиНа улице Али шёл впереди, я в середине и брат мой сзади. Моё состояние от удушливой жары, непривычной одежды, бороды, которую я всё трогал, проверяя, крепко ли она сидит на месте, неудобной левой туфли и тяжёлой палки стало каким-то отупелым. В голове было пусто, говорить совсем не хотелось, и я был доволен, что по роли этого вечера я нем и глух. Языка я всё равно не понимаю, и теперь мне ничто не будет мешать наблюдать новую незнакомую жизнь. Мы перешли улицу, миновали ворота, по обыкновению крепко запертые, завернули за угол и через железную калитку, которую открыл и закрыл сам Али, вошли в сад. Я был поражен обилием прекрасных цветов, издававших сильный, но не одуряющий аромат. По довольно широкой аллее мы двинулись в глубину сада, теперь уже рядом, и подошли к освещенному дому. Окна были открыты настежь, и в большой длинной зале были расставлены небольшие, низкие круглые столики, придвинутые к низким же широким диванам, тянувшимся по обеим сторонам зала. Подле каждого столика стояло ещё по два низких широких пуфа, как бы из двух сложенных крест-накрест огромных подушек. На каждом пуфе - при желании - можно было усесться повосточному, поджав под себя ноги. Весь дом освещался электричеством, о котором тогда едва знали и в столицах. Али был яростным его пропагандистом, выписал машину из Англии и старался присоединить к своей, довольно мощной, сети своих друзей. Но даже самые близкие друзья не решались на такое новшество, только один мой брат да два доктора с радостью осветили свои дома электричеством. Пока мы проходили по аллее, навстречу нам быстро вышел Али молодой, а за ним Наль в роскошном розовом халате, который я тотчас узнал, с откинутым назад богатейшим покрывалом. Не виданный мною прежде затканный жемчугом и камнями женский головной убор, перевитые жемчугом же тёмные косы лежавшие на плечах и спускавшиеся почти до полу; улыбающиеся алые губы, быстро говорившие что-то Али... Я хотел сдвинуть чалму, чтобы услышать голос девушки, но быстрый взгляд Али как бы напомнил мне: "Вы глухи и немы, погладьте бороду". Я злился, но старался ничем не выказать своего раздражения и медленно стал гладить бороду, радуясь, что я хотя бы не слеп, по виду стар и могу рассматривать красавицу, любуясь ею безо всякой помехи. Девушка не обращала на меня никакого внимания. Но не требовалось быть тонким физиогномистом, чтобы понять, как занято её внимание моим братом. Теперь мы стояли на большой, со всех сторон обвитой незнакомой мне цветущей зеленью террасе. Яркая люстра светила как днём, так, что даже рисунок драгоценного ковра, в котором утопали ноги, был ясно виден. Девушка Среднего роста, тоненькая, гибкая! Крошечные белые ручки с тонкими длинными пальцами держали две большие красные розы, которые она часто нюхала. Но мне казалось, что она старается таким образом скрыть своё замешательство. Её глаза, громадные, миндалевидные зелёные глаза, не похожи были на глаза земного существа. Можно было представить, что где-то, у каких-нибудь высших существ, у ангелов или гениев, могут быть такие глаза. Но с представлением об обыкновенной женщине не вязались ни эти глаза, ни их выражение. Али предложил мне сесть на мягкий диван, а девушка и Али молодой сели напротив нас на большом мягком пуфе. Я всё смотрел не отрываясь на лицо Наль. И не один я смотрел на это лицо, меняющее своё выражение подобно волне под напором ветра. Глаза всех трёх мужчин были устремлены на неё. И какое разное было их выражение! Молодой Али сверкал своими фиолетовыми глазами, и в них светилась преданность до обожания. Я подумал, что умереть за неё, без колебаний, он готов каждую минуту. Оба были очень похожи. Тот же тонко вырезанный нос, чуть с горбинкой, тот же алый рот и продолговатый овал лица. Но Али - жгучий брюнет, и чувствовалось, что темперамент в нём тигра. Что мысль его может быть едкой, слово и рука ранящими. А в лице Наль всё было так мягко и гармонично; всё дышало добротой и чистотой, и казалось, жизнь простого серого дня, с его унынием и скорбями не для неё. Она не может сказать горького слова; не может причинить боль; может быть только миром, утешением и радостью тем, кто будет счастлив её встретить. Дядя смотрел на неё своими пронзающими агатовыми глазами пристально и с такой добротой, какой я никак не мог в нём предполагать. Глаза его казались бездонными, и из них лились на Наль потоки ласки. Но мне всё чудилось, что за этими потоками любви был глубоко укрыт ураган беспокойства и неуверенности в счастливой судьбе девушки. Последним я стал наблюдать брата. Он тоже пристально смотрел на Наль. Брови его снова, - как под деревом, - были слиты в одну прямую линию; глаза от расширенных зрачков стали совсем тёмными. Весь он держался прямо. Казалось, все его чувства и мысли были натянуты, как тетива лука. Огромная воля, из-под власти которой он не мог позволить непроизвольно вырваться ни одному слову, ни единому движению, точно панцирь укрывала его. И я почти физически ощущал железное кольцо этой воли. Девушка чаще всего взглядывала на него. Казалось, в её представлении нет места мысли, что она женщина, что вокруг неё сидят мужчины. Она, точно ребёнок, выражала все свои чувства прямо, легко и радостно. Несколько раз я уловил взгляд обожания, который она посылала брату; но это было опять-таки обожание ребёнка, в котором чистая любовь лишена малейших женских чувств. Я понял вдруг огромную драму этих двух сердец, разделённых предрассудками воспитания, религии, обычаев... Али старший взглянул на меня, и в его, таких добрых сейчас, глазах я увидел мудрость старца, точно он хотел мне сказать: "Видишь, друг, как прекрасна жизнь! Как легко должны бы жить люди, любя друг друга; и как горестно разделяют их предрассудки. И во что выливается религия, зовя к Богу, а на деле разрывая скорбью, мукой и даже смертью жизни любящих людей". В моём сердце раскрылось вдруг понимание свободы и независимости человека. Мне стало жаль, так глубоко жаль брата и Наль! Я увидел, как безнадёжна была бы их борьба за любовь! И оценил волю брата, не дававшего пробиться ни единому живому слову, но державшемуся в рамках почтительного рыцарского воспитания в своём разговоре с Наль. Вначале такая детски весёлая, девушка становилась заметно грустней, и её глаза всё чаще смотрели на дядю с мольбой и недоумением. Али старший взял её ручку в свою длинную, тонкую и что-то спросил, чего я расслышать не смог. Но из жеста девушки, каким она быстро вырвала свою руку, поднесла розы к зардевшемуся лицу, я понял, что вопрос был о цветке. Али снова ей что-то сказал и девушка, вся пунцовая, сияя своими огромными зелёными глазами, поднесла одну из роз к губам и сердцу и протянула её моему брату. - Возьми, - сказал Али так четко, что я всё расслышал. - В день совершеннолетия женщина нашей страны даёт цветок самому близкому и дорогому другу. Брат взял цветок и пожал протянувшую его ручку. Али молодой вскочил, как тигр, со своего места. Из глаз его буквально посыпались искры. Казалось, что он тут же бросится на брата и задушит его. Али старший только взглянул на него и провёл указательным пальцем сверху вниз, - и Али молодой сел со вздохом на прежнее место, словно вконец обессилев. Девушка побледнела. Брови её сморщились, и всё лицо отразило душевную муку, почти физическую боль. Её глаза скорбно смотрели то в глаза дяди, то на опустившего голову двоюродного брата. Али Мохаммед снова взял её руку, ласково погладил по голове, потом взял руку моего брата, соединил их вместе, и сказал: - Сегодня тебе 16 лет. По восточным понятиям ты уже старушка. По европейским - ты дитя. По моим же понятиям ты уже человек и должна вступить в жизнь. Не бывать дикому сговору, который так глупо затеяла твоя тётка. Ты хорошо образованна. Ты поедешь в Париж, там будешь учиться, а когда окончишь медицинский факультет, поедешь со мной в Индию, в моё поместье. Там, доктором, ты будешь служить человечеству лучше, чем выйдя замуж за здешнего фанатика. Мой и твой друг, капитан Т.. не откажет нам в своей рыцарской помощи и поможет тебе бежать отсюда. Обменяйся с ним кольцами, как христиане меняются крестами. Мне было странно, что, не разбирая ни одного слова девушки, я четко слышал каждое слово Али. На мизинце брат носил кольцо нашей матери, которой я совсем не помнил. Старинное кольцо из золота и синей эмали с крупным алмазом, тонкой, изящной работы. Ни мгновения не раздумывая, брат снял своё кольцо и надел его на средний палец правой руки Наль. Она же, в свою очередь, сняла с висевшей у пояса цепочки перстень-змею, в открытой пасти которой покоился мутный, бесцветный камень, и надела его на безымянный палец левой руки брата. Не успел я подумать: "Какой безобразный! Такой же урод, как и держащая его в пасти толстая змея", - как вдруг едва не вскрикнул от изумления: камень, похожий на стекляшку, вдруг засверкал всеми цветами радуги. Никогда, ни один бриллиант самой чудесной воды и огранки не мог бросать таких длинных радужных лучей, сверкавших как луч солнца, преломленный в хрустальной пирамиде. У Али молодого вырвался стон, почти крик. И снова взгляд дяди заставил его успокоиться, снова он опустил голову на грудь. - Это камень жизни, - сказал Али старший. - Он оживает, принимая в себя электричество из организма человека. Ты, друг Николай, сейчас в полном расцвете сил и сердце твоё чисто. Вот камень и сверкает ослепительно. Чем старше ты будешь становиться, тем тусклее будут лучи камня, если только мудрость и сила духа не придут к тебе на смену физических сил. Ты отдал моей племяннице самое дорогое, что имел, - любовь матери, закованную в это кольцо. Наль отдала тебе дар мудреца-прадеда, завещавшего ей передать кольцо тому, кого будет любить так сильно и верно, что и на смерть пойдёт за него. Я нечаянно взглянул на молодого Махмуда. Не цветущий юноша сидел напротив меня. Сидело привидение с прозрачным, мертвенным лицом, с тусклыми, ничего не видящими глазами. Я подумал, что он в обмороке и только держится в сидячем положении, случайно найдя устойчивую позу. - Сегодня, - продолжал Али Мохаммед, - должна совершиться та великая перемена в твоей жизни, о которой я тебе говорил месяц назад, моя Наль, и к которой я готовил тебя более пяти лет. Капитан Т. отведёт тебя и двух твоих преданных слуг к себе домой. Али же пойдёт с тобой. Там ты найдёшь европейское платье для себя и слуг, переоденешься, отдашь свой халат и покрывало Али, и вместе с капитаном Т. вы все уедете на станцию железной дороги. Али же вернётся сюда. Доверься чести и любви капитана. Он отвезёт тебя в такой город и в такое место, где ты будешь в полной безопасности ждать меня или моего посла. Ни о чём не беспокойся. Храни только верность единственному закону, закону мира. Будь мужественна и жди меня без страха и волнений. Раньше или позже, - но я приеду. Повинуйся во всём капитану Т. и не бойся оставаться без него. Если он временно тебя покинет, - значит, так будет необходимо. Но он оставит тебя под охраной верных друзей, если бы случилась такая необходимость. А теперь выйдем в сад все вместе. Мы вышли в сад. Али молодой подал мне руку, чтобы помочь сойти со ступенек террасы. Внезапно весь дом погрузился во тьму, где-то перегорели пробки. Пользуясь полным мраком, брат, Наль, Али и ещё две фигуры тихо вышли из сада через калитку. Али старший что-то шепнул племяннику, и тот Согласно кивнул головой. В темноте бегали какие-то фигуры, слуги зажгли кое-где свечи, отчего тьма показалась ещё гуще. Так прошло с четверть часа. Мне померещилось, что я снова увидел Наль в том же розовом халате, с опущенным на лицо покрывалом. Как будто даже Али Мохаммед обнял её за плечи; но среди пёстрых впечатлений этого дня я уже не мог отдать себе ясный отчёт ни в чем и подумал, что мне просто привиделась та, красота которой точно врезалась в моё сознание. Между тем свет вдруг ярко вспыхнул, ещё три раза мигнул и полился ровно. - Настал час съезда, - четко сказал Али Мохаммед, и я опять его понимал. - Не забудьте - вы хромаете на левую ногу, вы глухи и немы. Вам будут много и почтительно кланяться. Не отвечайте никому на поклоны, только мулле едва кивнёте. Не ешьте ничего с общего стола. Кушайте только то, что вам будет подано с моего. К концу ужина настанет час выхода Наль. Она будет укутана в драгоценные покрывала. Всеобщее внимание будет приковано к условному похищению Наль женихом. К вам подойдёт мой друг и проведёт вас к задней калитке сада. Там будет стоять сторож. Вы ему покажете кольцо, что я вам дал, вас выпустят, и вы пройдёте другой дорогой к себе домой. Дома вы найдёте письмо брата. Вы снимете свою одежду, спрячете всё, как вам будет сказано в письме. Придется вам немало поработать, чтобы привести в порядок дом. Надо, чтобы денщик ничего особенного не обнаружил, когда станет убирать комнаты. С этими словами Али оставил меня и пошёл навстречу группе гостей; им открыли калитку возле ворот, которой я раньше не заметил. Высокая фигура хозяина выделялась на целую голову над пёстрой группой гостей. Некоторым он важно отвечал на поклон, и они проходили дальше. Другие задерживались подле, и он жал им по-европейски руки. Гости всё подходили, и вскоре вся аллея и веранда были густо усеяны живописными фигурами. Говор, смех и напряжённое ожидание вкусного угощения, какие-то, очевидно весёлые рассказы - всё создавало приподнятое настроение. Но, приглядываясь, я заметил, что гости держатся обособленными кучками. Те, что были одеты не совсем по-азиатски, держались особняком. А остальные всё поглядывали на муллу, как музыканты на дирижёра. Я поневоле пристально присматривался ко всем, думая обнаружить, не загримированы ли чьи-либо лица подобно моему, искусственную бороду на котором я так важно поглаживал. Время незаметно шло, гости входили теперь реже, где-то заиграла восточная музыка, и из дома вышло несколько слуг, приглашая гостей в зал. В самой глубине зала, у дверей в соседнюю комнату стоял Али Мохаммед с ещё не виденным мною очень высоким человеком в белой одежде и такой же чалме. Золотистая борода, огромные тёмно-зелёные прекрасные глаза, слегка загорелое лицо. Очень стройный, человек этот был молод, лет 28-30, и бросался в глаза своей незаурядной красотой. Ростом он был чуть ниже Али, но много шире в плечах, необычайно пропорционален, - настоящий средневековый рыцарь. Я невольно представил его себе в одеждах Лоэнгрина. Хозяин приветствовал входивших в зал глубоким поклоном. Гости рассаживались на диваны и пуфы, соблюдая всё тот же порядок и держась отдельными кучками. Прибывшие оставляли туфли или кожаные калоши у входа, где их подбирали слуги и ставили на полки. Среди гостей не было ни одной женщины. Я стоял, наблюдая, как проходят и усаживаются гости, и не представлял, куда я могу сесть. Я уже хотел было скрыться в сад, как почувствовал на себе взгляд Али. Он сказал что-то мальчику-слуге, и тот быстро направился ко мне. Почтительно поклонившись, он пригласил меня следовать за собой и повёл к столу, находившемуся неподалёку от стола хозяина. За этим столом уже сидело двое мужчин средних лет в цветных чалмах и пёстрых халатах. Они сидели по-европейски, обуты были в европейскую обувь, а сверх европейских костюмов имели только по одному шёлковому халату. Они почтительно поклонились мне глубоким восточным поклоном. Я же, помня наставление Али, даже не кивнул им, а просто сел на указанное мне место. Только когда все гости расселись, заняли свои места Али и высокий красавец. Музыка заиграла ближе и громче, и одновременно слуги стали вносить дымящиеся блюда. Мальчики разносили фарфоровые китайские пиалы и серебряные ложки, подавая их каждому гостю. Но не все гости накладывали жирный, дымящийся плов, в пиалы и ели его ложками. Большинство запускали руки прямо в общее блюдо и ели плов руками, что вызывало во мне чувство отвращения, близкое к тошноте. Хотелось убежать, хотя никогда прежде не виденная мною толпа представляла зрелище красок и нравов чрезвычайно интересное. На наш стол тоже подали блюдо плова, но я не прикасался к нему, помня наставление Али и ожидая специального кушанья. И действительно, от его стола отделилась высокая фигура поразившего меня красавца, и он подал мне серебряную пиалу с небольшой золотой ложкой. Очевидно, честь, оказанная мне, считалась по здешним обычаям очень высокой, потому что на мгновение в зале умолк говор и шум, и вслед за наставшей тишиной пронеслись удивлённые восклицания. Гости, судя по жестам и мимике, спрашивали друг друга, кто я такой. Многие очень серьёзно поглядывали на меня, что-то говорили своим соседям, и те удовлетворённо кивали головой. Но в это мгновение внесли новые ароматные блюда, и всеобщее внимание отвлеклось от меня. Я невольно встал перед державшим мою чашу красавцем. Он улыбнулся мне, поставил пиалу на стол и поклонился по-восточному. От его улыбки, от добрых его глаз, от какой-то чистоты, которой веяло от него, меня наполнила такая радость, как будто я увидел старого, верного друга. Я отдал ему глубокий восточный поклон. Мои соседи по столу задавали мне какие-то вопросы, которых я не понял и не расслышал, а видел только их шевелящиеся губы и вопрошающие глаза. Меня выручил мальчик, сказавший им что-то, показывая на рот и уши. Сотрапезники мои покачали головами и, сострадательно поглядев на меня, принялись кушать с аппетитом свой плов, слава Богу, накладывая его ложками в пиалы. Я поглядел на содержимое моей серебряной пиалы и несказанно удивился. Там, по виду, был компот из фруктов, а у меня уже разыгрался аппетит, и я с удовольствием поел бы чего-нибудь более существенного. Я разочарованно взглянул на Али Мохаммеда, он встретил мой взгляд, как бы зная заранее, что я буду разочарован. В его руках была точно такая же пиала, как моя, он её приподнял, словно желая чокнуться со мной, и ласково улыбнулся. Чтобы не показаться невежливым и невоспитанным гостем, я взял и проглотил небольшой кусочек неизвестного мне плода, плавающего в соку, напоминавшем красное вино. И в тот же миг улетучилось всё желание более основательной пищи. Чудесный вкус, аромат, вроде ананаса, и сок, бодрящий, прохлаждающий. Я ел с таким удовольствием, что даже перестал наблюдать за происходящим. А между тем, наблюдать было что. Оба моих соседа сняли свои халаты и пиджаки и остались в одних шёлковых рубашках и широких чёрных поясах, заменявших жилеты. Влияние жары и на других более европеизированных гостей также ощущалось. Правоверные же, обливаясь потом, стирая его рукавами с лоснящихся лиц, усердно ели, нередко пятная свои драгоценные халаты, но никто не снимал ничего из своей одежды. Жара и тяжёлые яства доводили гостей до изнеможения. Позы становились вольнее, голоса громче, затевались споры, очень напоминающие ссору. Компот, поданный мне красавцем, обладал, очевидно, каким-то волшебным свойством. Мне перестало быть жарко, уже не хотелось содрать с себя чалму, я был бодр и ощущал свежесть во всём теле. Мне казалось, что я могу легко пройти сейчас вёрст десять, словно бы не было вовсе утомления и волнений дня. Мысль моя обострилась, я стал внимательно наблюдать за всеми. Полное спокойствие и самообладание, уверенность в самом себе и какая-то новая сила взрослого мужчины, которой я ещё ни разу не испытывал, появилась во мне и удивила. Я вспомнил брата, Наль и Али молодого. Почему-то у меня не было ни малейшего беспокойства за тех двоих, но Али молодого я стал беспокойно искать глазами по всему залу. Мне пришла на память фигура в розовом халате Наль, которую я заметил в темноте сада. Я продолжал искать двоюродного брата Наль, но найти его не мог. Случайно мой взгляд встретился со взглядом хозяина, и я точно прочел в нём: "Храните самообладание и помните, когда вам уйти и что делать дома". Волна какого-то беспокойства пробежала по мне, точно порыв ветра, заставляющий мигать пламя свечи, - и снова я вернулся к полному самообладанию. Между тем блюда сменились много раз, уже были расставлены всюду горы фруктов и сластей. Мои соседи ели сравнительно мало, зато дыни поглощали в несметном количестве, посыпая их перцем. Снова отделилась от стола Али великолепная фигура золотоволосого красавца, и он подал мне чашу с какими-то другими фруктами, напоминавшими по внешнему виду зёрна риса в меду. Нагнувшись, он незаметно сунул мне в руку записку, опять низко поклонился и отошёл. Я хотел отдать ему поклон, но не мог встать, мне не повиновались ноги. При свойственной мне смешливости, я расхохотался бы во всё горло, если бы не стягивала так сильно щёки борода. Я развернул записку, там было написано по-английски: "Сначала съешьте то, что я вам сейчас принёс. Не пытайтесь встать, пока не съедите этого кушанья. Вам непривычны наши пряные блюда, от них ноги - как от некоторых сортов вин - вам не повинуются. Но через некоторое время, после новой пищи, всё будет в порядке. Не забудьте, в конце пира вам надо уйти, я сам отведу вас к калитке. Когда подымется шум, встаньте и немедленно идите к столу хозяина, я вам подам руку, и мы сойдём в сад". Я не хотел раздумывать над сотней таинственных и непонятных мне вещей. Но стать вновь хозяином своих ног я очень желал, а потому поторопился съесть содержимое чаши. Было очень похоже на маленькие катышки сладкой каши в соусе из меда, вина, ванили и ещё каких-то ароматных вещей. Мои соседи уже давно перестали обращать на меня внимание. Они следили, казалось мне, с возрастающим беспокойством за усиливающимся шумом и возбуждением гостей. Я попробовал теперь двинуть ногой, привстал, как бы поправляя халат, - ура! ноги мои тверды и гибки. Шум в зале стал напоминать воскресный гул базарной площади. Кое-где за столиками шли ожесточённые споры, гости размахивали руками и, со свойственной Востоку экспрессией, выкрикивали визгливыми голосами какие-то слова. Мне показалось, что я уловил "Наль" и "Аллах". Шум в зале всё усиливался. И тут я вспомнил, что мне пора вставать и двигаться к столу Али. Я хотел быстро подняться, но неловкость в левом башмаке сразу же заставила меня образумиться и войти в роль хромого. Я отдал должное уму и наблюдательности брата. Не будь этого неудобного башмака, толстой чалмы и склеивающей движение губ неуклюжей бороды, я бы уже сто раз забыл, что должен играть роль глухого, немого и хромого. Взглянув на Али, я увидел, что мой красавец уже поднялся и двинулся навстречу. С огромным трудом я вылез из-за стола, оставив свои пиалы и ложку. Заметив моё затруднение, золотоволосый великан в один миг очутился возле меня; а мальчик, подскочив с листом мягкой белой бумаги, в один миг завернул обе мои серебряные чаши и ложку и подал мне их, что-то лопоча с глубоким поклоном. Видя, что я удивлённо смотрю на него и не беру свёрток, он стал почтительно совать мне его в свободную от палки левую руку. - Возьмите, - услышал я над собой голос. - Таков обычай. Возьмите скорее, чтобы никому не пришло в голову, что вы не знаете местных обычаев. Мальчик так усердно кланяется вам, потому что думает, что вы очень важная персона и недовольны столь малым подарком в день совершеннолетия. Пойдёмте, пора, - закончил он свою английскую фразу и поддержал меня под левую руку. Я едва шёл, неудобный башмак так жал мне ногу, что я почти подпрыгивал и, пожалуй, без помощи красавца-гиганта не смог бы сойти с невысокой, но крутой лесенки в сад. Едва мы сделали несколько шагов по аллее, как потух свет, В зале раздался рёв не то радости, не то озорства и негодования. Возле нас мелькнула чья-то тень и набросила на моего провожатого какое-то лёгкое плотное покрывало, которое задело и меня. Мой проводник схватил меня, как малого ребёнка, на руки и бросился в гущу сада. Добежав до калитки, мы столкнулись со сторожем, которому я показал перстень, данный мне Али Мохаммедом, и он беспрекословно пропустил нас на улицу. Мой спутник сказал ему несколько слов, он почтительно поклонился и закрыл калитку. Мы очутились на пустынной улице. Глаза попривыкли к темноте, из сада нёсся шум, но больше ничего не нарушало ночной тишины. Небо сияло звёздами. Мой спутник опустил меня на землю, снял неудобную туфлю. Наклоняясь ко мне, он стащил с меня и чалму и, пристально глядя мне в глаза, сказал: - Не теряйте времени. Жизнь вашего брата, Наль и ваша зависит во многом от вас. Если вы в точности выполните всё, как указано в письме, что лежит на подушке вашего дивана, - всё будет хорошо. Забудьте теперь, что вы были хромы, глухи и немы; но помните всю жизнь, как вы играли роль старика на восточном пире. Будьте здоровы, завтра утром я вас навещу. А сегодня, что бы вы ни услышали, - ни в коем случае не покидайте дом и даже не выходите во двор. Сказав мне всё это по-английски, он пожал мне руку и исчез во тьме. Когда я отворял дверь нашего дома, то увидел, что свет в саду Али снова вспыхнул. "Значит, горит и у нас", - подумал я. Обнаружив небольшую полоску света из-под двери кабинета, я пошёл туда и поразился беспорядку, царившему там, при щепетильной аккуратности брата. Очевидно, здесь несколько человек переодевались. Но я мало обратил внимания на внешний беспорядок. Все мои мысли были заняты судьбой брата. Притворив плотно дверь, я запер её на ключ, задёрнул на ней тяжёлую портьеру и поправил складки на полу, чтобы свет не проникал в щель. "Прежде всего, - думал я, - надо прочесть письмо". Удостоверившись, что ставни на окнах закрыты, синие шторы спущены и плотные портьеры задёрнуты, я прошёл в свою комнату. Здесь у самого дивана горела небольшая лампа. Окна тоже были укрыты плотно, и сильная жара становилась невыносимой. Мне хотелось раздеться, но мысль о письме точно заколдовала меня. Я бросил палку, снял верхний халат, подошёл к дивану и на подушке увидел большой синий конверт, на котором рукой брата было написано: "Завещание". Я схватил толстый конверт, осторожно его разорвал и оттуда вынул два письма и записку. Одно из них было длиннее и носило ту же надпись, сделанную рукой брата: "Левушке". На другом незнакомым мне круглым, полудетским, женским почерком было написано: "Другу, Л.Н.Т." Я прежде всего развернул записку. Она была короткая, и я жадно её прочел. "Левушка, - писал мне брат, - некогда. Из большого письма ты узнаешь всё. Теперь же не медли. Сними грим с лица и рук жидкостью, что стоит у тебя на столе. Все костюмы, что брошены в комнате, а также всё с себя спрячь в тот шкаф в гардеробной, который я тебе показал сегодня. Туда же спрячь и флакон с жидкостью для грима. Когда закроешь плотно дверцы шкафа, нажми справа в 9-м цветке обоев, считая от пола, совсем незаметную кнопку. Сверху опустится обитая теми же обоями лёгкая стенка и закроет шкаф. Но осмотри внимательно всё, не забудь чего-либо из одежды". Я мгновенно вспомнил, что провожавший меня покровитель снял с моей головы чалму и сдёрнул с левой ноги туфлю. Я очень обеспокоился, не потерял ли их дорогой. Но, поглядев на свёрток с чашами, сунутый мне мальчиком, я рядом с ними увидел и уродливую туфлю и чалму. Очевидно, мой спутник дал мне всё это в руки, и я машинально держал всё вместе, а войдя в комнату, бросил на стол. Я достал вату, смочил сначала руки, и они сразу стали снова белыми. Я подумал, что придется долго возиться с лицом из-за бороды; но ничуть не бывало. Похожая на молоко, приятно пахнущая жидкость сняла всю черноту с лица; борода сразу отстала, мне сделалось легко и даже не так жарко. Я сбросил ещё один халат, оставшуюся туфлю и чулки, надел лёгкие ночные туфли и пошёл убирать комнату брата. В царившем, как мне показалось вначале, хаотическом беспорядке всё же была какая-то система. Все халаты были собраны в один узел; остальные принадлежности туалета тоже были связаны в узлы. Оставалось всё унести в гардеробную. Я подумал о денщике, но вспомнил, что он обладал богатырским сном, что даже пушечная пальба и та не будила его, как говорил брат. И действительно, едва я вышел в коридор, как могучий храп денщика заставил меня улыбнуться. Мои лёгкие шаги вряд ли могли нарушить его сон. Несколько раз мне пришлось пропутешествовать из кабинета с узлами в гардеробную. Наконец, я убрал всю обувь, оставались чалмы. Я узнал чалму брата по треугольнику с изумрудом. На туалетном столе лежал и футляр от него. Я хотел было отколоть его и спрятать в футляр, но решил выполнить дословно приказ записки, взял все чалмы, подобрал и футляры и отнёс всё в шкаф. Тут же снял я и всю свою одежду, собрал бороду, палку, чалму, свёрток с чашами и несносную туфлю и всё это бросил тоже в шкаф. Я ещё раз вернулся, внимательно осмотрел все комнаты, нашёл футляр от своей булавки для чалмы и снова снёс в шкаф. Ещё и ещё раз я осматривал внимательно все закоулки в комнате брата и, наконец, решился нажать кнопку, которую отыскал не без труда в 9-м цветке обоев. Девятых цветков, считая снизу, было много и, наконец, на одном из них, отнюдь не самом близком к шкафу, мне удалось найти чтото похожее на кнопку. Сначала ничего не было заметно; я уже стал терять терпение и называть себя ослом, как лёгкий шелест заставил меня поднять глаза. Я едва не подпрыгнул от радости. Медленно ползла сверху стенка и через несколько минут, всё ускоряясь в движении, мягко опустилась на пол. "Волшебство, да и только", - подумалось мне и, действительно, если бы я собственными руками не убрал всё в шкаф, а не мог бы предположить, что комната эта имела когда-нибудь другой вид. Но раздумывать было некогда, всё виденное и пережитое мною за день слилось в такой сумбур, что я теперь даже неясно отдавал себе отчёт, где кончалась действительность и начинался мир моих фантазий. Я потушил свет в гардеробной, в которой не было вовсе окон, запер двери и снова вернулся в кабинет. На полу валялось несколько бумаг, какие-то обрывки писем и газет. Всё это я тщательно собрал, как и куски грязной ваты в своей комнате, бросил в камин и сжёг. Теперь я мог успокоиться, потушил свет и перешёл в свою "залу". Мне хотелось пить, но жажда прочесть письма была сильнее физической жажды. Я перечел ещё раз записку, убедился, что всё по ней выполнил, и сжёг её на спичке. Мне послышался шум на улице, как будто глухо прокатилось несколько выстрелов, и снова всё смолкло. Я лег и начал читать письмо брата. Чем дальше я читал, тем больше поражался; и образ брата Николая вставал передо мною другим, нежели я привык его себе рисовать. Много, много лет прошло с той ночи. Не только я уже старик, не только нет в живых брата Николая и многих из участников побега Наль, но и вся жизнь вокруг меня изменилась; пришла война, одна, другая, третья, пронеслись тысячи встреч и впечатлений, а письмо брата Николая всё стоит передо мной таким, каким я воспринял его всем сознанием в ту далёкую, незабвенную ночь. Вот оно, это письмо: "Левушка! Письмо это ты прочтешь тогда, когда настанет час моего большого испытания. Но этот час будет также и твоим огненным часом; и тебе придется проверить и выказать на деле твою верность и преданность брату-отцу, как ты любил называть меня в исключительные моменты жизни. Теперь я обращаюсь к тебе как к брату-сыну. Собери всё своё мужество и выкажи честь и бесстрашие, которые я старался в тебе воспитать. Моя жизнь раскололась надвое. Я - христианин, офицер русской армии - полюбил магометанку. И отлично знаю, что в этой любви не бывать радостному концу. Сеть религиозных, расовых и классовых предрассудков представляет из себя такую стену, о которую может разбиться воля не только одного человека, но и целого войска. Как я встретил ту, кого люблю? Как познакомился?.. Всё узнаешь, если конец истории не будет печален; вернее, если будет история, а не простой смертный конец. Сейчас я скажу тебе только самое главное, то, что ты должен будешь сделать для меня, если захочешь отстаивать мою жизнь и счастье". Дальше следовало, - через несколько пустых строчек, - более свежими чернилами и более нервным почерком, - продолжение: "Ты уже знаешь Али Мохаммеда и молодого Али. Ты увидел Наль. Тебе предстоит разыграть роль гостя на пиру и .. быть заподозренным в том, что ты выкрал Наль в тот час, когда её жених должен был, по здешнему обычаю, похитить свою невесту. Если ты не захочешь выдать меня, если ты будешь хорошо играть свою роль, как тебе это укажут Али старший и его друг, - мы с Наль, может быть, уйдём от грозы и ужаса фанатического преследования... Зайди к полковнику М. и скажи, что я уехал раньше него на охоту с подвернувшейся оказией и буду поджидать его у знакомого лесника, как всегда. Если же не дождусь его там, то проеду дальше и рассчитываю, что встретимся у купца Д. и привезём домой немало дичи; чтобы М. взял с собой лишнее ружье и побольше дроби. Сходи утром, часов в 8, передай всё точно и не опоздай. Дальше во всём доверься Али Мохаммеду. Обнимаю тебя. Не думай о грозящей мне опасности. Но думай, хочешь ли добровольно, легко просто стать защитой, а может быть, и спасением мне и Наль. Прощай. Мы или увидимся счастливыми и радостными, или не увидимся вовсе. Во всех случаях будь мужествен, правдив и честен. Твой брат Н.". Я взглянул на часы. Было уже почти четыре часа утра. Снова мне послышался шум на улице, хлопанье точно пастушеских бичей показалось даже, будто в ворота стучат. Но я помнил наставление моего ночного спутника по дороге домой, потушил свет и стал прислушиваться. По улице быстро прокатилось несколько телег, завопили какие-то голоса, раздалось снова несколько выстрелов; начинались какие-то песни и сейчас же обрывались. Мне казалось, что на улице происходит какой-то скандал; хотелось выглянуть откуда-нибудь, но я не решался, чтобы не навлечь подозрении на дом брата. Сна не было ни в одном глазу, усталости также. Я зажёг снова лампу, перечитал ещё раз письмо брата, поцеловал его и взялся за другое. "Друг и брат, - начиналось оно, - я только маленькая женщина. Ты меня не знаешь, и вот из-за незнакомой женщины в твою жизнь врывается опасность. Брат, Али Мохаммед, мой дядя, воспитавший меня, - лучший человек, какого могла создать жизнь. Если ты захочешь помочь мне избежать ужаса брака с грубым страшным человеком, фанатиком и другом муллы, я уверена, что мой дядя будет тебе всегда благодарен. И, в свою очередь, защитит тебя от всех опасностей, которые будут угрожать в жизни тебе. Что я могу ещё сказать, брат и друг? Я прошу помощи и ничего не могу обещать тебе взамен лично от себя. Мы, женщины Востока, любим однажды, если жизнь позволяет нам любить. Ты - брат, брат-сын того, кого я люблю. Да будет же тебе моя любовь любовью сестры-матери. Останусь ли жива, буду ли мертва - я для тебя с этой минуты сестра-мать. Отдаю тебе поклон и поцелуй; и пусть всегда останется в твоём сердце чудный образ твоего брата-отца, а также горячо любящей его и тебя Наль". Снова послышался на улице шум; казалось, бежит множество ног возле самого дома и грохочут телеги. Я потушил огонь и стал вслушиваться. Где-то, теперь подальше, прогремел опять выстрел; проехала, грохоча, ещё одна тяжёлая телега, - и снова всё смолкло. Я чиркнул спичкой и поглядел на часы. Было уже половина шестого, значит, на улице совсем светло; но я всё же не решился открыть окна. Я зажёг лампу в комнате брата, взял конверты и письма, ещё раз их перечел, бросил в камин и поджёг. Как странно горели письма! Вдруг, вспыхнув, почти погасли, отделилось и свернулось письмо брата, и я ясно прочел слова: "брат-отец". Затем снова всё ярко вспыхнуло, а на письме Наль, точно на белом пятне в кругу огня, появились круглые буквы: "Наль". Ещё раз всё вспыхнуло, превратилось в красные лохмотья и погасло, чтобы уже больше не явиться в нашем мире, как условная серия знаков любви, надежды, опасений, горя и верности. Долго ли я сидел перед камином, - не знаю. За весь истекший день я не мог отдать себе отчёт во всём происходившем; а эта ночь, какая-то сказочная, фантастическая ночь, расстроила мои нервы окончательно. Я старался, но не мог собрать мыслей. На сердце была такая тяжесть, какой я ещё в жизни не испытывал. "Брат-отец" - всё мысленно, на тысячу ладов шептал я, и слёзы катились из моих глаз. Мне казалось, что я похоронил всё, что имел лучшего в жизни; что я вернулся с кладбища, чтобы начать одинокую жизнь брошенного, никому не нужного существа. Ни на минуту в сердце моём не было страха. Отдать жизнь за брата казалось мне делом таким естественным и простым. Но как защитить его? В чём может выразиться моя, такого неумелого и неопытного, помощь ему? Этого я себе не представлял. Время шло; я всё сидел без мыслей, без решений, с одною болью в сердце и не мог унять льющихся слёз. Где-то очень близко пропел петух. Я вздрогнул, взглянул на часы, - было без четверти семь. "Пора", - подумал я. У меня оставалось времени только чтобы одеться и идти к полковнику с поручением брата. Я перешёл в свою комнату, отдёрнул портьеру, чуть приоткрыл ставень. На улице всё было тихо. Я прошёл в умывальную комнату, по дороге увидел денщика, хлопотавшего над самоваром. Я велел ему не спешить с самоваром, так как брат вечером уехал на охоту, а я пойду известить об этом полковника М. Очевидно, внезапные отъезды на охоту были в привычках брата, ибо денщик мой ничуть не удивился. Он предложил мне, что сбегает сам к полковнику, но я отклонил его предложение, сказав, что хочу прогуляться сам. Он растолковал мне ближайший путь садами, и через четверть часа, приведя себя в полный порядок, я вышел через сад на другую улицу. Я шел быстро, было жарко. День был праздничный, и, проходя мимо базара, я шёл среди оживлённой, густой толпы. Я старался ни о чём не думать, кроме ближайшей задачи: оповестить М., и даже страсть к наблюдениям заснула во мне. - Здравствуйте, - вдруг услышал я за собою. - Вот как! Вас интересует базар? Я уже минут пять бегу за вами и едва догнал. Очевидно, вы что-то высмотрели и хотите купить? - передо мной, весело улыбаясь, стоял полковник М. - Да я к вам спешу, - обрадовался я. - Брат просил передать, что он не дождался вас и с подвернувшейся оказией уехал вперёд на охоту. И я подробно передал всё порученное мне в записке насчёт встречи, ружья и дроби. - Вот хорошо-то! - весело воскликнул полковник. - А ко мне приехал племянник, страстный охотник; и просит, молит взять его с собой. Места не было бы, если бы я ехал с вашим братом. А теперь я могу его взять. Только выеду не сегодня, а завтра на рассвете. Разговаривая, мы пересекли базарную площадь, в конце её, у развалин старой мечети, собралась порядочная кучка восточного народа, среди которого я заметил несколько жёлтых халатов и остроконечных шапок с лисьими хвостами монашеского ордена дервишей. - Да, должно быть здорово обозлены эти жёлтые на Али Мохаммеда, - сказал полковник. - Почему? - спросил я. - Что им сделал Али Мохаммед? - Да разве вы не слыхали, что против него собираются поднять религиозное движение? И в эту ночь вот эти жёлтые дервиши, конечно, сами учинили огромную пакость Али. Вы ничего не слыхали? - продолжал спрашивать полковник. Я внутренне вздрогнул, но спокойно пожал плечами и сказал: - Что же я мог слышать, если почти единственный мой знакомый здесь вы, и вижу я вас только сейчас; а брат мой уехал вчера вечером. На это полковник кивнул головой и рассказал мне, что в эту ночь у Али Мохаммеда должно было состояться похищение невесты, его племянницы. Что это - часть обряда, заранее обусловленная; что едет жених похищать невесту с толпой своих товарищей, с пальбой из ружей и прочей инсценировкой дерзкого похищения; а на самом деле невесту они находят в определённом месте, выведенную старухами, хватают её и мчат во весь опор в дом жениха на хороших конях, стреляя в воздух. Мне вспомнились выстрелы и шум телег ночью; и я недоумевал, чем же это разрешилось, кого же увезли вместо Наль. Видя, что я молчу, полковник счёл, что его рассказ меня не занимает. - Конечно, вам, столичному человеку, не интересны наши дела. Но живя здесь, видя тьму, в которой обретаются люди, зажатые муллой, поневоле сострадаешь этому чудесному мягкому народу и горячо к сердцу принимаешь борьбу такого чудесного человека, как Али Мохаммед, с религиозным фанатизмом. Это истинный слуга народа. Я поспешил заверить полковника, что более чем интересуюсь его рассказом; и что рассеянность моя относится к необычной для меня внешней красочности жизни, которой я никогда раньше не видел. - Да, так вот я и говорю, что они подстроили - вот эти, - кивнул он головой на жёлтые халаты монахов, - самую пакостную историю бедному Али. Они похитили его племянницу, упрятали её куда-то, а его обвиняют, что он устроил побег с помощью какого-то важного хромого старика купца, которого здесь никто не знает. Словом, факт тот, что ночью с пира жених и его друзья похитили Наль: а когда примчались домой, то в повозке нашли розовый халат, драгоценное покрывало да пару крошечных туфелек невесты, а самой невесты и след простыл. Оскандаленный жених примчался к Али. Весь дом спал уже глубоким сном. Еле добудились Али, послали на женскую половину за старухами. Когда старухам сказали, что невеста сбежала, тётка Наль чуть глаза не выцарапала жениху. Пришлось самому Али унимать старую ведьму. Но, разумеется, они девушку упрятали в надёжное место, чтобы оскорбить Али и объявить против него религиозный поход. Это очень хорошо, что ваш брат вчера вечером уехал. Все, кто был в добрых отношениях с Али, могут оказаться в опасности, так как религиозный поход - это благовидный предлог для убийства неугодных почему-либо и сведения личных счетов. Я молча шёл рядом с полковником, погруженный в невесёлые думы о брате и Наль, об обоих Али и обо всех грозящих им бедах. Только теперь я сообразил, как велика опасность. Не раз вспоминал я смертельную бледность молодого Али, его муки ревности и подавленное бешенство. Чью сторону примет юноша? Не видел ли кто, куда подевался хромой старик с пира? Мы подходили к дому полковника, он звал меня радушно к себе, но я отговорился головной болью и поспешил домой. Дни Наль и Николая текли легко, разнообразно и радостно. К завтраку, в двенадцать с половиной часов, а до этого юная пара успевала осмотреть в Лондоне то, что с вечера назначал им отец, приезжала Алиса. Обычно только здесь в первый раз встречались молодожёны с Флорентийцем, всё более и более привязываясь к нему и не противясь могучему очарованию своего великого друга. После завтрака Алиса, Наль и Николай проводили час-другой с Флорентийцем, который руководил их образованием. Затем Алиса давала Наль уроки музыки, в чём последняя выказывала немалые способности. Расставшись после урока, каждая шла своим путём труда. И до самого пятичасового чая в доме царила полная тишина. Только в большом зале время от времени раздавались звуки рояля, затем опять наступала полная тишина. Это училась и обдумывала свои музыкальные вещи Алиса. Николай, если только не занимался в библиотеке или не выезжал куда-нибудь с Флорентийцем, работал подле него. К чаю все снова соединялись, и молодые люди - от чая до обеда - гуляли, ездили верхом или отдыхали как-то иначе по своему вкусу. К обеду приезжал пастор и, посидев часок в кабинете Флорентийца, увозил дочь домой. Среди кажущегося внешнего однообразия жизни целый новый мир открывался молодым и пожилым гостям Флорентийца. По настоянию хозяина Сандра и лорд Мильдрей стали обычными гостями за обедом, сплачиваясь в одну крепкую и дружную семью со всеми обитателями дома. Под скромной внешностью пастора кроме недюжинного музыкального таланта скрывались ещё ум и огромная образованность учёного, и он часто поражал экспансивного индуса своими познаниями и памятью настолько, что от восторга тот вскакивал, потрясал руками и топал ногами. Под укоризненным взглядом лорда Мильдрея, насмешив в достаточной степени всех друзей своими кульбитами, Сандра утихал, конфузливо взглядывал на Флорентийца и, сложив руки, уморительно, с детским отчаянием говорил: - Не буду, лорд Мильдрей, вот уж наверное в последний раз я проштрафился. Никогда больше не буду, - и заставлял Наль и Алису смеяться. - Если бы я мог завидовать, граф Николай, я бы всему завидовал в вас. В вашем спокойствии, изящной, какой-то чуть военной манере ходить и держаться, есть особый аристократизм, которого я не замечал в прочих людях. Но что ещё отличает вас от других, - я не знаю. Могу сказать только, что вы принадлежите не тому миру, в котором живём мы все, но миру лорда Бенедикта. - Долго ли ты, оксфордский мудрец, будешь величать Николая графом? Я нахожу, что вам всем пора уже бросить сиятельные приставки и звать друг друга по именам. Все вы - мои дети. - И всё же это правда, лорд Бенедикт, что Николай, - как вы приказываете его звать, - имеет какие-то особые качества, - вмешался пастор. - И если все мы ваши дети, то он из нас старший и больше прочих походит на отца. - Благодарю, друзья, за высокое мнение обо мне. Но, право, это ваша детская фантазия. Я просто более выдержан и спокоен. Расстояние между мною и отцом ровно такое же, как между ним и вами. Нам лучше бы сегодня пораньше разойтись. Я вижу, дорогой пастор сильно утомлён, - закончил Николай. На побледневшем лице Алисы мелькнула тревога: - Я вообще замечаю, что папа худеет. Он болен, но не хочет в этом признаться. Я пожалуюсь вам, лорд Бенедикт, на папу. Когда мне случается врасплох застать его, - он так погружен в свои мысли, что даже не сразу видит меня и не сразу понимает, о чём я ему говорю. И вид у него какой-то нездешний. Если бы мама увидела его в таком состоянии, она наверное бы решила, что папа беседует с ангелами, ведь она не раз уверяла нас всех, что папа временами впадает в безумие. С некоторых пор отец пугает меня чем-то новым, какой-то оторванностью, отрешённостью от земли, - говорила девушка, опускаясь на колени перед своим отцом. Пастор ласково обнял дочь, заставил её сесть рядом. На его добром лице сейчас сияла улыбка, а глаза точно благословляли дочь. - Нам с тобой не следует беспокоить лорда Бенедикта, дитя. Люди не могут жить вечно. В первый же вечер знакомства с нашим великодушным хозяином я сказал тебе: "Мы с тобой нашли, наконец, верный путь, и я могу умереть спокойно". - Папа, папа, не разрывайте мне сердце. На кого же вы покинете меня? Зачем вы меня пугаете? - Я старался взрастить в тебе сильную душу. В тебе одной я не ошибся. Ты знаешь мою верность Богу, ты знаешь, что нет смерти. Я уйду в вечную жизнь, и ничего страшного в этом пет. Если бы я в последний миг земной жизни не встретил счастья в лице лорда Бенедикта и не мог быть спокойным за то, что зло не окружит тебя, - я бы действительно не сумел уйти так, как подобает верному сыну Отца. Теперь же я знаю, что ты останешься под высокой защитой и зло не коснётся тебя. - О папа, папа, не покидайте меня, -рыдала Алиса. - Я ещё ничем не отплатила за ваши заботы, радость, любовь. За чудесную жизнь, что вы создали мне. Я не вынесу разлуки, я уйду за вами. По знаку хозяина все гости вышли из комнаты. Лорд Мильдрей увёз расстроенного Сандру к себе, а Николай увёл рыдающую Наль. Оставшись наедине с отцом и дочерью, Флорентиец подал обоим рюмки с лекарством. Вскоре страданье отступило, лицо пастора стало бодрым и свежим. Рыданья Алисы тоже утихли, хотя её глаза-сапфиры по-прежнему сохраняли скорбное выражение. Когда оба гостя совершенно успокоились. Флорентиец взял их за руки и сказал: - Жизнь даёт людям зов в самой разной форме. Нередко её призыв выражается в преждевременной смерти. Чаще - в Голгофе страданий. Иногда в человеке, прошедшем свою Голгофу, умирают его прежние качества и силы и он продолжает жить новой жизнью, как бы жизнью после смерти, поскольку всё личное, что держало его в плену, все страсти и желания - всё в нём умерло, освободило его дух. И сохранилась только его прежняя внешняя форма, наполненная новым, очищенным духом, чтобы через неё могла проходить в мир суеты и греха высшая любовь. Есть такие места на земле - тяжёлые, плотные и зловонные из-за своей атмосферы, наполненной страстями, скорбью, злом, - куда люди, высоко и далеко прошедшие, очищенные от страстей, уже проникать не могут. Но и там нужны самоотверженные, умершие личностью проводники, через которые можно было бы давать помощь людям, гибнущим среди зла. Флорентиец ввёл отца и дочь в свою тайную комнату. - Господи, второй раз я здесь, и второй раз точно перед престолом Божиим, - прошептал пастор. - И вы не ошиблись, друг. Вы действительно перед престолом Божиим. С этими словами он откинул крышку белого стола, и взорам обоих предстал мраморный жертвенник, на котором стояла высокая зелёная чаша, как бы вырезанная из цельного изумруда. Подведя потрясённых своих друзей к жертвеннику, Флорентиец встал за ними, положил им руки на головы и сказал: - Вы видите перед собой Огонь нетленной Жизни. В Нём - все силы земли. Им земная жизнь держится. Им всё живое вдохновляется к творчеству. Это огонь сферы земли, вложенный в каждого человека. Огонь этот и Свет солнца - два Начала жизни земли, плоти и духа, неразрывно связанных. С окончанием земной жизни человека огонь меняет форму. И меняет в зависимости от того, как Свет солнца был вплетён в путь Человека им самим. Нет ни одного животного, в котором было бы два Начала. Каждое несёт в себе только этот огонь сфер. И существуют миллионы людей, в которых огонь земли развит до высоких и даже высочайших степеней, а Свет солнца тлеет едва заметной искрой. Такие люди владеют большими знаниями сил природы, даже могут ими управлять, но не горит в них Свет солнца, свет любви и доброты. Они преданы тьме эгоизма, и горят в них только страсти и желания, только сила и упорство воли. Тёмная их сила во всё вносит дисгармонию и раздражение. Их девиз - "Властвуя побеждай", тогда как девиз детей Света - "Любя побеждай". Упорство их воли - меч того зла, в запутанные сети которого они затягивают всякого, в ком находят возможность пробудить жажду славы и богатства. На эти два жалких крючка условных и временных благ и попадаются те бедные люди, из которых они делают себе слуг и рабов. Сначала их балуют, предлагают мнимую свободу, а затем закрепощают, соблазнив собственностью, ценностями, и так погружают в разнузданность страстей, что несчастные и хотели бы освободиться, да у них уже нет сил вырваться из цепких лап. Если сердца ваши готовы служить светлому человечеству, если вы хотите принять девизом жизни "Любя побеждай", если в вас горит желание приносить любовь и помощь высших братьев в скорбящие сердца, ещё не безнадёжно утонувшие во зле, - я буду давать указания, как и где действовать в ваших трудовых буднях. Не о смерти думайте, но о жизни, протекающей вокруг вас сейчас. Ищите не молитвы о будущем, но любви радостной, чтобы каждое текущее мгновение отражало ваше творящее доброту сердце. - Я хочу жить так, как зовёте вы, - сказала Алиса. - Все оставшиеся мне моменты жизни на земле хочу служить Отцу моему, как и пытался я делать это до сих пор. В вас вижу ту великую встречу, того наставника на земле, о котором всегда мечтал, и благодарю моего Создателя, пославшего мне её. Отец, а за ним дочь склонились перед жертвенником, вознося к небу свои молчаливые молитвы. Их лица были так спокойны, как будто никогда не знали страдания. Флорентиец поднял их, благословил и обнял каждого. Он простился с ними до завтра, наказав им сохранять в полной тайне свой новый путь любви и труда. Возвратившись и, по обыкновению, не встретив никого из домашних, отец и дочь, посидев немного вместе, разошлись по своим комнатам. Переполненное сердце каждого, несмотря на теснейшую взаимную дружбу, жаждало одиночества. Алиса, углубившись в книгу, данную ей Флорентийцем, скоро забыла обо всём. Душа её нашла новый мир, и она легла спать, в первый раз в своей юной жизни обретя полное спокойствие, примирение и радость, не омраченные повседневной скорбью о семейном разладе. Пастор, открыв своё окно, выходившее в благоухающий сад, долго смотрел на звёздное небо, но спокойствия на его лице не было. Казалось, он вновь обдумывал всю свою жизнь. Он вспоминал о первой встрече со своей женой в Венеции. Леди Катарине было тогда восемнадцать лет, а ему двадцать один. Он и не помышлял о том, что уедет из Венеции женатым человеком, бросив карьеру певца, которую начал блестяще. И первые встречи с будущей женой даже не произвели на него большого впечатления. Леди Катарина была тогда очень красива, жила у своей подруги, дочери важного и знатного синьора. Происходя из родовитой, но обедневшей семьи, жившей в глухой провинции, леди Катарина потерпела фиаско в тяжёлой любовной истории, должна была спешить с замужеством и дала себе слово выйти за первого же подходящего иностранца, с которым встретится, чтобы уехать с ним из Италии. И подходящим для себя сочла лорда Уодсворда. Выведав у простодушного англичанина всю его подноготную, поняв, что его можно взять только добротой и любовью, леди Катарина так играла роль безнадёжно в него влюблённой, что бедный лорд попался на крючок и - незаметно для себя - соболезнуя ей, полюбил бедную девушку сам, навек отдав ей сердце. Не сразу удалось ему уломать отца и получить разрешение. Упрямый старик дал своё согласие на брак с тем условием, что младший сын его станет пастором. За это он обещал ему дом в Лондоне, тот самый, где и жила до сих пор семья пастора, со всей обстановкой и садом. Но с условием, что дом будет принадлежать младшей дочери. Фамильные драгоценности бабушки тоже предназначались ему, любимцу. Но бабушка умерла внезапно, не оставив завещания. На словах она успела передать сыну свою волю касательно младшего внука, велев передать ему небольшую сумму денег и все бриллианты. Пастор разделил это наследство по своему усмотрению. Старшей дочери деньги, младшей - дом и камни. Молодой лорд, поведавший девушке свои мечты об артистической карьере, рассказавший о своей любви к музыке, был страшно удивлён, когда она принялась уговаривать его послушаться отца, сделаться пастором и немедленно на ней жениться. Никакие доводы логики не действовали. Девушка не верила в его артистические таланты, столь одобряемые профессорами. Не верила его способностям к науке и боялась стать женой ничем не обеспеченного певца или ещё менее обеспеченного учёного. Дом же в Лондоне, предоставляемый немедленно за согласие стать пастором, казался ей уже кое-чем, а деньги и бриллианты были надёжнее восторгов толпы или лавров учёного. Её настойчивые уговоры перешли в бурные мольбы о спасении, и последовали такие сцены, что бедный юноша, принеся в жертву свои мечты, повёл к алтарю девушку, которую - как ему говорила она теперь, - он шокировал и компрометировал своим поведением. "Чем была вся моя семейная жизнь?" - думал в ночном безмолвии пастор. Лично для него каждый прожитый день являл собой ряд внутренних катастроф. Неряшливая и жадная итальянка с дурными манерами трудно поддавалась элементарному внутреннему и внешнему воспитанию. И только окончательное его решение, твёрдое как скала, стоившее немалого количества истерик и сцен, заставило леди Катарину образумиться и усвоить внешние требования, предъявляемые английским обществом к женщине её круга. Пастор объявил категорически, что до тех пор, пока она не научится вести дом и хозяйство и держать себя, как подобает английской леди, она не будет представлена ни его отцу, ни старшему брату, не будет введена в их семью, а следовательно, лишится того высшего общества, которого так жаждет. Целый год прошёл в напряжённой борьбе. Дочь родилась преждевременно, в шевелюре пастора появилось несколько седых волосков, и вот наконец налёт богемы, неизвестно как и где приобретённый, благодаря огромным усилиям воли и доброте мужа сошёл с леди Катарины. Постепенно вводимая мужем в общество, она усвоила внешний аристократизм, оставаясь по сути мелкой и жадной мещанкой. Пользуясь своей красотой, пасторша легко завладевала сердцами, но прочной дружбой ни с кем похвастаться не могла. Какие горькие минуты переживал пастор, возвращаясь в свой тихий дом из богатых покоев отца и брата! Леди Катарина, ослепленная блеском роскоши, только и говорила, что о слабом здоровье его брата, об отсутствии у него наследников, и об их блестящем будущем после смерти брата, когда её муж станет единственным наследником всех его богатств. Вспомнилось пастору и рождение его младшей дочери. Насмешки матери сыпались на голову бедного младенца, синие отцовские глаза и кудрявые белокурые волосы которого раздражали её. Так и росла бедная Алиса, видя, как мать всегда и во всём предпочитала старшую сестру. Но кроткий ребёнок, восхищавшийся и матерью и сестрой, не только принимал как должное своё положение Золушки. Доброе, не знавшее зависти сердце искало любой возможности служить обеим. И всегда бывало эксплуатируемо, часто в ущерб своему здоровью. Пришлось пастору и здесь наложить вето, с которым уже была хорошо знакома его жена. Вот об этом-то и думал сейчас пастор, стараясь отдать себе отчёт, насколько виновен он перед Богом и собой в своей нескладной жизни. Он поднялся, закрыл окно и опустился на колени перед аналоем, на котором лежало Евангелие. - Господи, виновен человек во всей своей жизни, и только он один виновен. Знаю - скоро отойду. И молитва моя к Тебе: "Ныне отпущаеши раба Твоего, Владыко, по глаголу Твоему с миром". Я понял слишком поздно, что главное звено всей жизни, всюду, не только в семье - мир сердца. Я старался нести его всем. Но в семье своей поселить его не сумел. Проходя свой день, я стремился принести встречному бодрость. Я стремился ободрить и утешить каждого. Я хотел, чтобы вошедший ко мне одиноким - ушёл радостным, ибо понял, что у него есть друг. Но в семье своей, со всей энергией доброты, я не достигал не только гармонии, но даже чистоты. Господи, я понял всё страдание земли своим разбитым сердцем. И я его принял и благословил. Защити Ты дитя моё величием Твоей благой любви. Ибо моё сердце не выдерживает более двойственности и не может больше биться, пребывая в компромиссе. Я знаю единый путь человека на земле - путь самоотверженной преданности Тебе. Но радость этого пути, отравляемая ежедневной ложью и лицемерием в семье, не ввела меня число слуг Твоих, на которых лежит отражение Тебя. Ныне, у божественного огня, я понял, увидел новый путь любви. Я знаю, что для меня уже поздно, что я ухожу с земли, - прими меня с миром и не оставь дитя моё беззащитным. Лицо пастора посветлело. Перед ним ярко и ясно вставал образ Флорентийца, и уверенность в помощи приходила к нему, на сердце становилось легко и мирно. Вся нечисто прожитая семейная жизнь перестала его тревожить. Это было уже прошедшее, далёкое и чуждое. Точно не он, теперешний пастор, прожил её. Не его мечты и грёзы, схороненные и заколоченные где-то в больном сердце, стоили смертной борьбы. Не он боролся, чтобы понять и исполнить свой путь, как путь утешителя каждому встреченному на земле, а иной человек, о котором он сам теперь сохранил только воспоминание. Мелькнувшая молодость, занятия наукой, музыкой, любимая дочь, цветущая природа - всё показалось ему одним мгновением. Отрешённость, долго жившая в сердце как мучительное страдание, стала вдруг радостью раскрепощения. Дух его ничто больше не тяготило. Он понял, что жизнь - это одно мгновение Вечности. Что земная жизнь человека завершается тогда, когда истощается его творческая сила, и земля, как место труда, борьбы, ему более не нужна. Можно умереть молодым, и только потому, что в данных земных условиях ни сердце человека, ни его сознание больше не могут сделать ничего. Нужны иное окружение и иная форма, чтобы дух и творческие способности могли совершенствоваться. Светало. Пастор встал с колен, подошёл к окну, открыл его и сел в кресло. Его мысли вернулись к Алисе. Но теперь тревоги за дочь он уже не испытывал. Он знал, что каждый может прожить только свою жизнь. И сколько бы ни старался ты протоптать тропинку для своих детей, жизнь повернёт её так, что только сам человек, только он один, сможет проложить её для себя. Ни пяди чужой жизни не проживёшь. Когда Алиса утром вышла в сад поливать цветы и увидела отца сидящим у окна, она кинулась к нему. Но в ту же секунду радость её померкла и сменилась тревогой. - О папа, вы больны? Что с вами? Вы так изменились за ночь, осунулись, так бледны, что я сейчас же вызову доктора. - Успокойся, дитя, у меня бессонница. Не могут старые люди всегда быть здоровыми. Я уже говорил не раз: и молодые могут умереть, а для старых - это неизбежно. О чём тревожиться? Люби меня, но люби спокойно, люби всякую мою форму, ощущай близость со мной, где бы я ни жил, далеко или близко. Верная любовь не знает разлуки. Слёзы готовы были брызнуть из глаз Алисы, но доброе её сердце мужественно победило свою скорбь, чтобы не тревожить отца. - Вам, папа, не хочется выйти в сад? - Нет, дитя, мне так хорошо здесь. - Я сейчас принесу вам шоколад. Отдыхайте и ждите меня, я скоро. Уж я заставлю вас есть сегодня, - стараясь казаться весёлой, говорила Алиса. Но как только она завернула за угол дома, где её не мог видеть отец, она села на скамью и, закрыв лицо руками, горько зарыдала. - О чём ты плачешь, Алиса? - резко спросила Дженни с балкона своей комнаты. - Разбила куклу? Или сегодня, у новых друзей, тебе хочется иметь томный вид страдающей жертвы? Алиса собралась рассказать Дженни о болезни отца, о своей тревоге за него, но взглянув во враждебные глаза сестры, сказала только: - Ты всё шутишь, Дженни. А мне кажется, что над нами нависло горе, которого ты не хочешь видеть. Дженни рассмеялась так же резко и насмешливо продолжала: - Давно ли ты в мудрецы записалась? Шестнадцать лет слыла дурочкой и вдруг попала в умницы у лорда Бенедикта. Кому это делает честь? Его прозорливости или твоей хитрости? - Меня, Дженни, ты можешь называть как угодно. Но если ты хоть раз ещё позволишь себе сказать что-либо неуважительное о лорде Бенедикте, - ты уйдёшь из этого дома, чтобы никогда в него не вернуться. Помни, что я тебе сейчас сказала, - это дом мой. И чтобы ни единого непочтительного слова о лорде Бенедикте в этом доме произнесено не было. Что-то отцовское, когда он говорил своё редкое, но неумолимое "нет", сверкало в глазах Алисы. Необыкновенная решительность и железная твёрдость в её голосе - всё это было так неожиданно в кроткой и нежной сестре. Дженни сразу почувствовала, что это не пустая угроза, что она действительно останется без крова, если нарушит этот запрет Алисы. Дженни знала, что кроткий отец обладал колоссальной силой характера, и ничто не могло изменить его решения, если он его продумал и высказал. В Алисе она сейчас узнала эту отцовскую черту, как давно уже узнавала в себе черты матери. Пока Дженни приходила в себя от изумления, Алиса приготовляла завтрак пастору. Не один пастор провёл сегодня бессонную ночь. Дженни вчера возвратилась домой в полной размолвке с матерью. И обе, недовольные друг другом, разошлись по своим комнатам, не помирившись перед сном. Не в первый раз за последнее время мать и дочь был недовольны друг другом, что поражало их обеих, проживших до сих пор в большой любви и дружбе и не ссорившихся прежде. Ленивые, самолюбивые и вспыльчивые, они искали в Алисе причину своего дурного настроения. Им всегда казалось, что они недовольны ею, а не друг другом. Бессознательно ища её общества в минуты раздражения, обе они, покоряемые кротостью и любовью ребёнка, его всегдашним желанием успокоить и развлечь их, поддавались обаянию этой чистоты и самоотвержения, хотя считали Алису дурочкой. Теперь Алисы, как и пастора, целыми днями не было дома. Работа, которую всегда делала Алиса, свалилась нынче на них. Ведь Алиса постоянно шила, гладила, стирала, что-то перекраивала, чтобы Дженни и мать выглядели нарядными. Рояль ждал Алису неделями, потому что даже уходя из дома, обе давали наказы, во что их одеть завтра, совершенно не думая о том, что труд этот чрезмерен. Раздражаясь, обе кое-как сами прилаживали теперь свои туалеты, проклиная в душе тот день и час, когда лорд Бенедикт переступил порог их дома. Запершись в своей комнате вечером, Дженни рвала и метала. Неоднократные размолвки с матерью, отсутствие у неё всякой выдержки, не сходившие с уст проклятия докучали Дженни. Только теперь она увидела, как некультурна её мать, и оценила благородство отца. За всю сознательную жизнь Дженни пастор не сказал матери ни одного слова повышенным тоном и не позволил себе ни единого неджентльменского поступка по отношению к ней. Он был справедлив к обеим дочерям, балуя обеих одинаково. Мать же признавала только Дженни. И она со стыдом сейчас вспоминала, как часто съедала сладости, предназначенные Алисе, как отнимала для неё мать у сестры её подарки. И как та, радостно улыбаясь, отдавала Дженни всё лучшее, что имела. Вспомнила Дженни и свой первый бал у деда. Мать приказала Алисе выпросить у деда её бриллианты, чтобы Дженни могла их надеть. Дед ласково, - при всей своей суровости он всегда был необычайно ласков с Алисой, - в просьбе отказал. Подняв её личико своей красивой рукой, он сказал: - Не Дженни и не твоя мать, а ты наденешь бриллианты моей матери. Они предназначены тебе и будут присланы к твоему первому балу. - Тогда уж, наверное, дедушка, их никому не придется надеть. Ведь моего первого бала никогда не будет. - Почему же так, внучка? - рассмеялся дед, обнимая девочку, чего тоже почти никто не удостаивался. - На балы не возят дурнушек. Да я предпочла бы послушать классическую, а не бальную музыку. Ах, дедушка, как ты меня огорчил. Дженни ведь такая красавица. Ну как же она явится на бал с голой шеей? - Может шею свою прикрыть или совсем на бал не ездить. - Так ей и сказать? - Так и скажи. Личико ребёнка опечалилось. Алиса долго ещё пыталась объяснить деду, что так огорчать людей нельзя. Это его смешило, он громко хохотал и всё же отвёз её домой с коробкой конфет, но без камней. Дженни вспомнила и этот день, и ясно видела перед собой поникшую фигурку сестры. Под градом материнских упрёков Алиса только горестно твердила, что просила деда так усердно, как самого Бога, но, видно, по её грехам, ни тот, ни другой не вняли. Картины жизни мелькали в памяти Дженни одна за другой, и вот в доме появился молодой учёный, друг отца, Сандра. Дженни в первый же вечер уловила восхищённый взгляд гостя, когда Алиса играла и пела, и старалась не допускать Алису к роялю при Сандре. Но тот умел действовать через отца, и это выводило из себя немузыкальную и ревнивую Дженни. Способная, с хорошей памятью, она легко схватывала суть каждой книги и была довольно образованна, хотя и не желала следовать той программе, которую ей предлагал отец. Знакомство с Сандрой, желание обратить на себя его внимание, заставило её серьёзно учиться, и она - не без пользы для индуса - иногда припирала его к стенке в споре. Но поразмыслив на свободе, индус являлся с новыми книгами и доказывал Дженни, что она орудует фактами по-дамски. И Дженни должна была прочитывать целые тома серьёзных книг, чтобы разобраться, права ли она. Это её злило и утомляло, раздражая ещё и потому, что, как она ни старалась привлечь Сандру, он поддавался её очарованию только до тех пор, пока не было Алисы. Стоило той войти - и вся учёность слетала с Сандры, он становился ребёнком и дурачился с сестрой, смеясь так весело и радостно, как этого никогда не могла добиться Дженни никакими чарами своего кокетства. Ревность жгла её сердце. Но она ни в чём не могла упрекнуть сестру. Алиса незаметно скрывалась, когда появлялся Сандра, и ни разу его имя не слетало с её губ иначе, чем в числе поклонников сестры. Сейчас Дженни стало душно в атмосфере зла и раздражения. Она поняла, что любит отца, любит и сестру, и хочет быть с ними. Она оценила их духовность и не знала теперь, как к ним подойти, как покончить с той двойственностью, в которой жила. Казалось бы, куда проще: попросить Алису взять её с собой к лорду Бенедикту. Там она могла бы получить совет, как приблизиться к отцу и сестре, не вызывая ревности матери. Но... как просить сестру? Как сказать ей? Лорд Бенедикт? Обратиться к нему? Невозможно: и стыдно, и страшно. Дженни решилась просить Николая. "Граф, - писала она, - мне впервые приходится обращаться за советом и помощью к чужому и малознакомому человеку. Но Вы не просто человек. Вы учёный и философ, и вот к этому последнему я решаюсь обратиться. До сих пор я очень уверенно и самонадеянно вела линию своей жизни и была убеждаема постоянным в ней успехом, что веду её правильно и именно так, как следует. Некоторый разлад в моей семье казался мне следствием детского, нежизненного простодушия папы и сестры. Теперь же в душе моей ад. Туда закрались сомнения. Там я вижу многое, ах как многое, не таким, как это мне казалось до сих пор. И выход найти, обрести хоть каплю мира, я не могу. Я всё больше раздражаюсь, и чем яснее понимаю, что моё злобное настроение доказывает только мою же неправоту, тем больше злюсь. И сама вижу, как змеи в моём сердце шипят и поднимают головы. К чему и почему я всё это говорю Вам, граф? Потому, что образы лорда Бенедикта и Ваш стоят передо мной неотступно. Только в Вашем доме я впервые поняла, что жизнь может двигаться вперёд добротой. И странно, там, в доме лорда Бенедикта, я не ощущала особенно сильно его и Вашего влияния. Даже - почти изгнанная лордом из его дома - я зло смеялась первые дни, усердно отравляя жизнь Алисе и папе. Но чем дальше, тем яснее я начинаю видеть ваши лица, и в моём сердце становится всё печальнее. Я прошу Вас, разрешите мне поговорить с Вами. Вспоминая строгое и какое-то особенное лицо лорда Бенедикта в последний миг расставания, я не смею обратиться к нему с просьбой о свидании. Его величавость - не поймите меня дурно, я уверена, что она - отражение его души, а вовсе не внешний фасон, - меня сковывает. Я не смею обратиться к нему и не могу себе представить, как обнажить перед ним язвы сердца. Я попрошу Алису передать Вам это письмо, но никогда не решусь переступить порог того дома, где сейчас живёте Вы, потому что это дом лорда Бенедикта, и не смею просить Вас приехать ко мне. Не откажите выйти завтра в три часа в Т-рсо-сквер и поговорить со мною. Примите самые искренние уверения в полном уважении к Вам Дженни Уодсворд". Много скорбных размышлений стоило Дженни это письмо. Гордая девушка никак не хотела поддаваться, как ей казалось слабости, и только её незаурядный ум помог ей признать свои ошибки и сказать о них. Окончив письмо, Дженни вздохнула с облегчением. Она, по крайней мере, оставила за собой некий Рубикон. Ей казалось, что она захлопнула дверь какого-то чулана в своей душе, тёмного и неприятного, и может не заглядывать туда несколько часов. Оставалось ещё одно: просить сестру передать письмо. И на деле это оказалось гораздо труднее. В своём сердце, каком-то размягченном, когда писалось письмо, она точно раскрыла объятия Алисе. Но... как только Дженни услыхала, как говорит сестра с отцом, услыхала её голос, полный беспредельной доброты и ласки, она мгновенно вспомнила давешнюю сцену у балкона, ожившую до боли четко и ясно. Потрясённая вспомнившимися словами Алисы, Дженни первым делом бросилась к письму, чтобы разорвать его в клочья. Но вместо этого она закрыла лицо руками и горько, по-детски зарыдала. Дженни, гордая Дженни, так много думавшая о своей красоте! Дженни, оберегавшая лицо от малейшего дуновения ветерка, не уронившая и слезинки, чтобы не испортить кожу, - Дженни рыдала, забыв обо всём, кроме глубокой горечи на сердце. Чья-то нежная рука обняла её. Чьи-то горячие губы целовали ей руки. Чьё-то дыхание согревало её, проникая в сердце, точно вытаскивая оттуда занозу. - Дженни, сестра, любимая моя, дорогая. Прости меня, я ведь такая глупая, ты это знаешь, прости, родная. Я не сумела донести до тебя свою мысль так, чтобы ты, такая умная, поняла бы меня. Слёзы сестры, такие необычные и вызванные ею, совсем уничтожили бедную Алису. Она готова была отдать самоё жизнь, чтобы утешить сестру. И всё же сознавала, что оскорбить лорда Бенедикта в своём доме не позволит. Всё, что шло от него, было дороже жизни. Алиса умерла бы за сестру, но не могла изменить ему, ибо он-то и был сейчас центром её жизни. Дженни ничего не отвечала. Но под наплывом её доброты затихла и вдруг почувствовала себя маленькой девочкой, прильнув к сестре, точно к доброй няне, Она молча, всё ещё чуть-чуть хмурясь, подала письмо Алисе. Та взглянула на адрес, ласково поцеловала её ещё раз и, спрятав письмо за корсаж, вышла из комнаты. Впервые Дженни почувствовала благодарность к сестре, сожаление о внутренней разъединённости с нею. Пасторша же, избалованная тем, что к её выходу в столовую в полдень Алиса подавала обильный завтрак, непременно с несколькими горячими итальянскими блюдами, теперь каждый раз раздражалась и оглашала дом руганью с кухаркой, не умевшей ей угодить. Её так и передёргивало всякий раз, когда Алиса садилась в элегантный экипаж и уезжала из дома, часто увозя с собой отца. Она долго пилила пастора, доказывая, как необходимо иметь свой экипаж, но получив однажды железное "вето", поняла, что должна покориться. Она, конечно, не покорилась и стала выпрашивать экипаж у тестя. Тот ответил ей, что охотно подарил бы ей лошадь, но сын запретил, а ссориться с ним он не хочет. Брат мужа, к которому пасторша обратилась с той же просьбой, дал ей такой же ответ. Бедная женщина стала бороться. Бороться с пастором, с каждым его распоряжением, приказанием, пожеланием. Поняв давно, что сгубила карьеру мужа и сама избрала скромную жизнь пасторши вместо блестящей и рассеянной жизни жены знаменитого певца, она вымещала на муже свою ошибку. Не зная английских законов, она думала, что получит развод, а вместе с ним и половину состояния и уедет за границу. Но всё было против неё, а стать вне общества она не решилась. Так и шла ее жизнь в полном отдалении от мужа, который жил в своём кабинете и после рождения Алисы не переступал порога супружеской спальни. Пасторша, ища развлечений на стороне, всё же вела внешне безукоризненную жизнь, и репутация её была незапятнанной. Пастор соблюдал внешний декорум счастливой семейной жизни и не пропускал случая быть вместе с женой там, где этого требовали обычай или этикет. Его доброта и джентльменская вежливость с женой вводили всех в заблуждение. Да и кому могло прийти в голову, что, имея мужем одного из известнейших учёных, человека большого музыкального дарования и честнейшей души, можно быть недовольной своей семейной жизнью. Непостоянная в своих увлечениях, пасторша часто искала новой влюблённости, но тщательно скрывала свои порывы от домашних. И Дженни, убеждённая, что мать - жертва самодура-отца, обожала мать вдвойне, стараясь вознаградить её за холодность мужа. Но не так давно зоркие глаза Дженни стали кое-что подмечать, чего пасторше вовсе не хотелось, хотя она и старалась воспитать Дженни на свой лад, уверяя, что в Италии не скрывают своих чувств. Однажды Дженни нечаянно столкнулась с матерью, когда та под густым вуалем выходила из подъезда чужого дома вместе с малознакомым мужчиной. Ни мать, ни дочь не произнесли ни слова за всю обратную дорогу. Дженни и дома молча прошла к себе. За обедом она, правда, уже овладела собой и старалась отвечать обычным тоном. Но в сердце её уже не существовало алтаря. Поверженный кумир перестал держать её в своей власти. Дженни не плакала, не стонала. Она охладела сразу. И пасторша поняла, что своё любимое дитя она теряет. Но и сейчас она не признала своих ошибок. Она хотела, чтобы Дженни принимала её манеру жить как единственно правильную и возможную. Избалованная привязанностью Дженни, пасторша не могла смириться с одиночеством в семье и решила соблазнить её проектом блестящего замужества. Не одну бессонную ночь она обдумывала ситуацию. Она легкомысленно перебирала молодых людей и пожилых лордов, знакомых и незнакомых. И успокаивалась к утру на том, что найдёт Дженни жениха с состоянием, именем и блестящим положением и тем вернёт себе дочь. Так и жила семья пастора, и никто не сознавал, кроме самого отца, что смерть уже нашла дорогу в их дом. Глава 2. ОбсужденияПонравилась статья? Есть вопросы? Хочется высказать своё мнение? Всё это возможно сделать на форуме
|
|